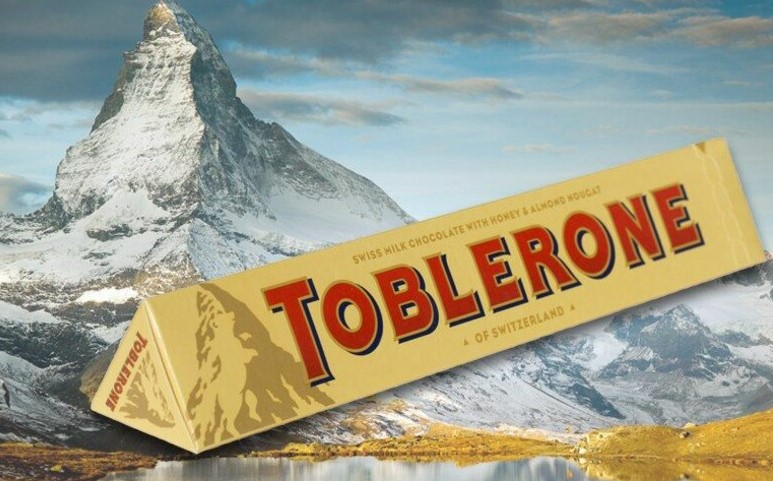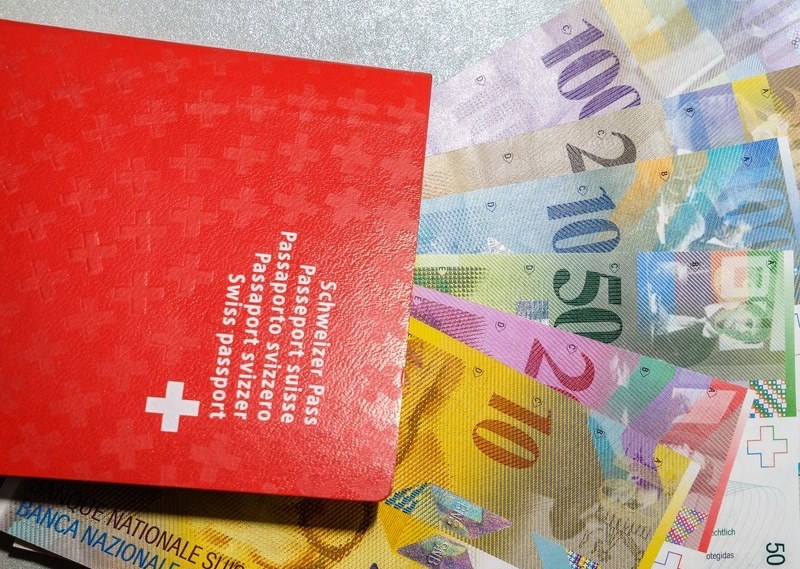Похоже на то. Сегодня Сергей Скрипка – народный артист России, профессор, художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. Вот и юбилей подошел: шестьдесят лет. И еще одна круглая дата подоспела – восемьдесят пять лет назад, осенью 1924 года, в Москве, в кинотеатре «Арс» на Арбате, впервые место тапера-пианиста занял оркестр (за эти годы Государственный симфонический оркестр кинематографии записал музыку к тысячам отечественных фильмов).
И что, Сергей Иванович, после того случая в троллейбусе вот так прямо и однозначно вам и легла дорога в дирижеры? Повороты, конечно, были, но в общем и целом – да, легла. У каждого есть свое предназначение. Есть судьба, я в этом плане фаталист, и она настигает всех, надо только понять, когда тебе дается шанс. Я всегда любил музыку. Получил хоровое образование в Харькове, стал работать дирижером-хоровиком, не оставлял мысли о симфоническом оркестре. Однажды написал работу «Искусство и кибернетика», и вот она-то стала для меня долгожданным шансом. Работа победила на всесоюзном молодежном конкурсе, и в 1970 году, в числе других лауреатов, я оказался в Ульяновске. Познакомился там с представительницей министерства культуры Ириной Владимировной Поморцевой, ее заинтересовала моя работа. Она спросила, чем я хочу дальше «по жизни» заниматься. Признался: «Хочу быть дирижером симфонического оркестра». – «Так приезжайте в Москву, я покажу вас Димитриади».
Я чуть не упал. В моем представлении великий дирижер и педагог Одиссей Димитриади был небожителем. Говорю: «Конечно, хочу». Приехал в Москву, Димитриади меня послушал, предложил поступать в его класс. Я был, как на крыльях. Но когда пришло время опять собираться в Москву, Димитриади уехал в Тбилиси работать главным дирижером оперы. Я с отчаяния снова обратился к Ирине Владимировне, и она помогла: повела к другому знаменитому дирижеру и преподавателю – Гинзбургу. Лео Морицевич – это не Димитриади. Тот был открытый такой и радушный грек, воспитанный в грузинской традиции. Гинзбург же всегда держал колоссальную дистанцию, хотя потом мы сильно сблизились, а под конец жизни я был ему и поводырем – он с трудом ходил и плохо видел, – и чуть ли не нянькой был. Он очень многое для меня сделал, и я абсолютно искренне отдавал свой долг учителю до самого его конца. Да, так вот, послушал меня Гинзбург, пригласил поступать, пообещал дать поработать с производственным оркестром, потренироваться, а потом, видимо, забыл об обещании, и первый раз в жизни я встал перед оркестром прямо на экзамене. Страшное ощущение. Хоровик и симфонист – это две большие разницы, как простая бумага в сравнении с гербовой… Я поступил. Судьба зигзагом (ну, действительно, какое отношение имеет победа в том конкурсе к симфонической музыке?) привела меня к моему предназначению. Больше тридцати лет, с семидесятых годов, я – в моем нынешнем оркестре.
В чем, собственно, разница между хорошим дирижером и выдающимся? Как и во всем, разница – в мере таланта. Плюс работоспособность, без которой и гений себя не реализует. Моцарту, который проявил свои способности еще в младенчестве, что, было так легко? Он трудился до седьмого пота. Мне вообще кажется, какая-то потребность появляется у природы в таких вот людях, сходятся какие-то силовые линии – и появляются таланты, великие композиторы, выдающиеся дирижеры, они горят, создавая, потому что только так могут реализовать себя. Если же оставить в стороне обязательное наличие способностей и призвания, то работа любого дирижера насыщена еще и постоянной переработкой колоссального материала, созданием на его основе чего-то нового. Вот есть гениальная музыка Бетховена, зашифрованная нотными знаками; ты пытаешься проникнуть в строй души композитора, возродить ее, подняться до его уровня, может, в каком-то смысле, в чем-то даже переосмыслить гения, чтобы его идеи донести в наше время. У одного получается – и слушатель потрясен, а у другого, хотя все, как по нотам, – нет.
Вас как руководителя оркестра кинематографии логично спросить: а какая из картин – самая любимая? У меня много любимых. Я обожаю «Кин-дза-дзу» – такое удовольствие было работать на этой картине. Очень люблю рязановские фильмы, с удовольствием работал на «Гараже» – это была моя первая картина с этим режиссером, на «Жестоком романсе» (мой любимый фильм Рязанова).
Работал с Гайдаем на картинах «Спортлото-82» и «За спичками». Со многими я работал. С Марком Захаровым – на фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона», «Формула любви».
Сложность записи музыки в кино в том, что работать надо сразу, без репетиций. Вот тебе ноты сегодня принесли, ты их сыграл и тут же записал. Всегда все в последний момент делается. Это редчайшие случаи, когда в музыкальной ленте сначала записывается фонограмма песен.
Какие акценты сделать, какой характер придать музыке – моя задача, я как музыкант обязан это уметь делать.
Трудные картины были? Были. Например, «Слезы капали». Георгий Данелия снял в этом смысле воистину безумную картину. Весь фильм, а он идет час сорок, построен на музыке. И мне фактически работать пришлось по партитурам, в которых не были даже обозначены инструменты. Стоит Данелия перед экраном и напевает тему. Я слушаю и запоминаю.
Рядом сидит ансамбль – 13 человек, и вот я должен каждому объяснить, где он что играет… В год мы записываем музыку к 50–60 фильмам, и ситуации бывают разные. Но это живое искусство. Музыка расширяет границы кадра. Оркестр дает глубину экрану и создает необходимую звуковую атмосферу. Я вообще уверен, что кино уже, в основном, развивается сейчас не столько в сторону изображения, сколько в сторону звукового сопровождения, чтобы добиться максимально реального звука.
Что для вас значит оркестр кинематографии? Очень многое, а в профессии – это, в сущности, все. Дирижером я должен был стать, это предопределенность.
А вот то, что я пришел в оркестр кинематографии и много лет связан с кино, – случайность, но очень правильная случайность.
И – никогда никаких сомнений? Были сомнения, но по причинам чисто административным. Пришел как-то к нам в середине девяностых руководителем один негодяйчик и попытался все поломать.
В оркестре он посадил своих людей во главе групп, они, по сути, играть не умели, зато были «своими». Вот тогда мне захотелось уйти. Слава Богу, его быстро убрали от нас. Но библиотеку он перепортить успел, много партитур «увел». У нас ведь очень хорошая библиотека, и самое главное в ней – рукописные ноты к девяти тысячам фильмов. Это огромный кусок отечественной кинематографии, который нам удалось сохранить.
Каждый музыкант считает себя уникальным, у каждого свое видение – как их всех объединить в большой оркестр? Ну, в оркестре все-таки собираются единомышленники, преданные музыке и доверяющие своему руководителю.
Правда, это идеальный вариант. Чаще бывает, что все равно приходится кому-то свой замысел объяснять, убеждать относительно построения музыкального произведения, формирования музыкального образа. Убедил – значит, оказался на одной волне, все пойдет правильно.
А вообще, дирижеру надо иметь твердую волю. Колоссальную волю. Если хотите, у него обязан быть взгляд удава; музыкант должен понимать: лучше подчиниться этим глазам.
Сколько зарабатывает музыкант симфонического оркестра? Девять-десять тысяч рублей – в Москве это не деньги. Оркестры обычно получают гранты и могут платить приличное вознаграждение музыкантам. У нас гранта до сих пор нет. Раньше мы входили в систему Госкино, были единственным оркестром в системе, все было ясно. Потом нас слили с Минкультуры, мы стали одним из двух десятков коллективов, никто не знает, что с нами делать. Нас пытают: где ваша публика, концерты, билеты? А концертов мы даем мало: у нас другая задача; наши концерты – это записи в студии, публика – это миллионы тех, кто кино смотрит. Но сегодня фильмы много денег не зарабатывают, в частности, из-за видеопиратства. Да и сами фильмы, за немногим исключением, сегодня очень и очень средние, сборы невысокие.
Нет работ уровня «Жестокого романса», «Берегись автомобиля»… Наш коллектив – старейший симфонический оркестр Москвы, в нем играют талантливые музыканты, он достоин того, чтобы о нем и его музыкантах говорили с уважением. Но мы пока что находимся вот в такой нелегкой ситуации… Мечтаем, чтобы у нас, как в других оркестрах, было финансирование. Если это будет – все остальное приложится.
Что происходит с культурой в России? Какие-то обнадеживающие ростки есть. Но в целом состояние культуры пока плачевно, и причины этого лежат на поверхности. Культура, тем более высокая, как это ни тривиально звучит, – не рыночный товар, а у нас сегодня все свалено в кучу.
Есть так называемая попса. Для молодых ребят, у которых пока что ветерок в голове, поработать ногами под качественную популярную музыку – это то, что надо. Мне и самому нравится Земфира, «Братья Грим»… Но есть высокое искусство, и не может искусство Баха, Бетховена, Моцарта, Чайковского и Шостаковича само себя окупать, да и предназначение у него совсем иное. Оно должно воспитывать и поддерживать нового человека, настоящую элиту, принадлежность к которой определяется вовсе не размером банковского счета. В каждом обществе эта прослойка очень тонка, она рождает великих гениев, правда, иногда и великих злодеев. Искусство должно поддерживать этот тонкий слой, пробуждать души, но оно также нуждается в поддержке.
Можно как угодно клясть предыдущую формацию, но при ней была система такой поддержки. И оркестры существовали, и хоры были – в каждом дворце культуры работало по 20–30 коллективов, это была правильная политика, направлявшая человека в нужное русло.
Почему-то в любом разумном сообществе всегда появляются силы, стремящиеся к разрушению; в физике такое явление называется энтропией. Вот и наше рыночное низкокачественное ширпотребное искусство, те же мелодии, состряпанные на синтезаторах, подталкивают сегодня человека к деградации. «Не парься» – вот главная идея. Связь между людьми ослабла, настоящее общественное мнение заменено пиар-акциями, критерии отсутствуют.
Поддерживать творческие силы личности и общества способно настоящее искусство. Но требовать от него самоокупаемости – это, извините, бред. Ненормально и то, что ни на одном госканале не услышишь симфоническую музыку. Все заполонили унылые клоны сериалов, серенькая музыка да «чернуха».
Где же вы увидели обнадеживающие ростки? Народ потянулся в залы. Люди хотят слушать качественную музыку. Я вот много лет работаю еще и в подмосковном Жуковском, руковожу там городским оркестром. Залы битком набиты. Нормальный симфонический оркестр – игрушка дорогая, но он в голове что-то упорядочивает, пробуждает творческие силы. Искусство – это пища для ума, оно дает цель и ощущение себя в этом пространстве, дает надежду, иными словами, помогает человеку приблизиться к пониманию смысла жизни.
Но вот что-то пока не заметно, чтобы государство поддержало положительную тенденцию. Здесь я оптимист, полагаю, ситуация рано или поздно изменится, но все невольно вспоминаю Некрасова: «Жаль только – жить в эту пору прекрасную уж не придется – ни мне, ни тебе…» Очень уж все запущено у нас.
Вы чувствуете себя полностью реализовавшимся человеком? Нет. Ощущение такое, как будто вчера все началось. Только-только в первом приближении что-то начинает просматриваться. Многое еще надо сделать для оркестра. А в творческой жизни, например, хочу еще подирижировать Брамса. Я Малера никогда не дирижировал. Много чего еще есть такого, что хотелось бы попробовать.